"Майечка"
Your text to link...
Мрачное, серое накрепко обняло небо: скоро заморосит.
— Ей идет черный цвет, — раздался, просеянный через сито ветра и слез, баритон Аркадия Никифоровича.
– Как ей шел черный цвет, — ударился он в слёзы.
Ссутулившийся старик, он молчал. Плакал, но про себя.
В голове раздался голос, её голос: бархатный, глубокий как синее море.
Алёша, Алёша, — покачивалось на приливных волнах.
Она была стихия.
— Ну! Пойдём, Аркаша.
Он ещё раз взглянул на небольшой мраморный постамент с хрустальным кубом посередине, под которым в серебряной урне покоится прах его жены.
Поправил цветы, георгины, у гравировки.
И мысленно попрощался, глаза-в-глаза, с той, чьё имя он будет хранить в памяти до последней картинки перед уплывающим в вечное Небытие взором.
— Скоро и я, Майечка. Скоро и я, люба моя. Подожди.
Красивая женщина в шелковом платье цвета толченого грифеля отвечала ему вселенским спокойствием, застывшим в ее чудесных больших глазах.
Он накрепко вдавил свои длинные пальцы в глаза, до темноты, до боли физической, в надежде душевную боль унять.
И вроде бы годы, и вроде бы всё понимаешь. Но эту боль унять сложно, боль утраты.
Утраты кого? Любимого человека? Само собой.
Но она была для него больше, чем просто любовь. Она – вся его сущность.
Скорее, скорее. Почему так быстро утекает песок времени, когда ты здесь, на Земле, и так медленно, — когда уже одной ногой там, на перепутье?
Старик оперся правой рукой о черного дерева трость с резным набалдашником в виде головы лебедя.
Эту трость ему подарила она незадолго до своей смерти.
— Смотри, что я тебе приготовила.
— Мой любимый “tarte aux pommes”?
— Да какой ещё?! – ах, эта ее «с дьвольцой» улыбка — Нет, смотри же сюда!
И она достала из потаенного угла за дверью, между гостиной и столовой, длинный сверток белоснежно — белой бумаги. Протянула этот сверток наигранно-театральным жестом.
— Что это?
— Взгляни, взгляни же скорее! Ну же!
На его и на ее лице пламенело тщательно скрываемое нетерпение, искры которого падали на одинаково изящный рот обоих, который сейчас съехал куда-то в сторону, подобно покосившейся крыше старого дома.
— Батюшки, — пролепетал он, отбросив оберточную бумагу в сторону, и щёголем начал расхаживать по паркету, громко простукивая глянцевую его поверхность новой тростью и каблуками лакированных туфель.
— Это же Лебедь. Наш Лебедь!
— Конечно же, наш.
— Удивительно! Майечка, спасибо тебе.
— Носи. Это тебе на память обо мне.
— Ну что ты такое говоришь, любовь моя?!
Когда муж так её называл, Маааайечка, на распев, она вновь ощущала себя семилетней девочкой — мотыльком, игравшей в спектакле своей тётушки Адель, которая служила актрисой в одном театре.
Ах, какая драма, какая чувственность! – подслушала однажды Майя восхищенные отзывы зрителей после очередного спектакля. Она подумала, что Драма – это имя одной из актрис, которой все восхищаются.
<…> Или воздушным пёрышком, то приближающимся к сцене, то взмывающим высоко над ней, как будто носимое на руках летнего ветерка, в погожий, искрящийся солнцем, денёк.
Ах, как хотелось и Майе поскорее вырасти и стать Драмой.
Муж нежно коснулся жениной мягкой щеки губами.
Сейчас, проходя между могилами на Новом кладбище, его собственная щека вдруг загорелась огнем при одной лишь мысли о том её прикосновении.
Небо прыснуло и охладило этот невыносимый жар.
— Ну! Вот и дошли, дорогой мой Алексей Викторович. Давайте я Вам помогу.
Вот Ваша тросточка, — обратился к старику Аркадий Никифорович.
Сам он сел рядом с водителем: «Едем — те домой!».
«Это тебе на память!», — а ведь она знала, чувствовала приближающийся конец.
Но мы клялись друг другу, что уйдём в мир иной вдвоем, взявшись за руки?! Разве нет? Воистину пути Господни неисповедимы. И работала она на износ. Эти бесконечные интервью, изматывающие до умопомрачения встречи, концерты, балы и празднества.
Она любила людей. Она дарила им всю себя и на сцене и вне сцены.
Для них она была великая танцовщица, для меня — любимая женщина. Остается ею и до сих пор.
Ушла, взмахнув, прощаясь с миром, птица,
Крылом, изломленным в угоду публике своей.
А публика, срываясь с места, гремела, рукоплескавши бурей ей,
Великой,
Вверх поднявши миллионы преданных очей.
Каждый день одно и то же: кулисы, овации, свет софитов.
Сегодня королева ушла на покой. Да здравствует королева!
Проехали мост, высвечивающий сумерки столбами цветных огней.
Он смотрел в окно и вспоминал их первую встречу на Малой Бронной.
Тогда они были приглашены в дом, на обед к поэту и его Музе.
Муза не унималась: была шумна, звучала громче музыки, натаскивала на себя одеяло из мужского внимания и взоров, уж конечно, назло поэту.
Но глаза Алексея, известного в интеллигентских кругах музыканта, заприметили другое.
Он услышал, сквозь шум, дивную мелодию, исходившую откуда – то со стороны сердца.
Это был испанский ритм, бурлящий котел, страсть, заключенная в хрупком тельце молоденькой девушки с чувственными, как у лемура, глазами.
Кармен, — подумал он.
И юная особа, видимо, также почувствовала в молодом человеке гармонию.
Он бесстыдно глядел на неё, не в силах оторвать от ее прекрасного греческого профиля, свой взгляд.
И так, после первой же встречи, они зазвучали по жизни вместе.
Он играл для нее свою музыку, а она танцевала.
— Я танцую так, как написано в партитуре. Слушайте музыку!, — часто наставляла она своих бабочек-учениц, трудившихся вместе с ней на сцене «Шекспировки».
Она кружилась вихрем перед караванами, идущими по пустыне на зов предков, перед уставшей толпой, истерзанной принесёнными войной невзгодами, перед сверкающей бриллиантами, изящной публикой во фраках.
И впитывала в себя всё, – весь мир!
Её сердце наполнялось этой энергией: вся боль и вся радость этого бренного мира.
И сердце однажды не выдержало.
<…> Он вымыл руки в ледяной воде, налил себе бокал «бееренауслезе» двадцатилетней выдержки, сел в велюровое с золотом кресло.
— Налей и мне, Алёша.
Рядом сидела она в своем лучшем платье, расслабленная, и какая-то умиротворенная, овеянная лёгкой пеленой, окутавшей её тело дымкой.
Голос не был обычным — он резонировал, как внутри наполненной прохладным воздухом пещере.
— Майя, это ты?!
— Конечно я.
— О, Господи, спасибо тебе!
Он протянул к ней свои руки, которые, несмотря на его преклонный возраст, сохранили в себе былое изящество, какого требует по обычаю его профессия.
Попытался встать, позабыв напрочь о трости. Распрямил молодцом плечи.
— Сиди, сиди, — успокоила его встревоженный порыв туманная женщина.
— Алексей, ты помнишь о моем завещании: я наказала развеять наш прах с высоты птичьего полета, когда придет и твой час?!
— Конечно, конечно, любовь моя! Я уже сказал Нижинскому, чтобы он все правильно сделал. Аркадий! Ты, верно, помнишь Аркадия Никифоровича?! Он сейчас вылетел за границу, чтобы вести там мои зарубежные дела. Спасибо ему огромное – он так помогает, наш милый друг. У меня нет сил, ты же понимаешь. Не могу. Я больше так не могу.
— Не торопи время, Алёшенька, я с тобой. А то будешь, как в том анекдоте про старика с длинной бородой, который, когда его спросили проходящие мимо ребятишки, укладывает ли он свою бороду под одеяло, или на него, когда спит, — задумался и перестал спать вовсе.
Оба засмеялись.
— Я была счастлива, и счастлива теперь. А помнишь ли ты….?
— Помню.
— А ты?
— Тоже.
И так они провели время до утра, предаваясь воспоминаниям, смеясь, радуясь, плача, хо-хо-ча.
Потом вдруг её глаз застыл, недвижный, прямо уставился то ли на китайскую вазу, привезённую с бывших гастролей, то ли поодаль, на сервант с книгами.
— А где Лебедь? Я хочу увидеть Лебедя!, – спросила она отвлечённо, обращаясь, как бы, не к нему, а к себе вовнутрь.
— Лебедь там, на озере, за домом.
— Пойдём. Я хочу поздороваться с ним.
Он взял свою трость. Половицы недовольно скрипнули: Хозяин, видите ли, нарушил их покой, двинулся по направлению к стеклянной двери, которая не заперта, как обычно, – в этом доме рады всем и всегда.
Она же медленно плыла за ним, не касаясь молодой травы, напившейся за ночь, утренней росы.
— Здравствуй, мой хороший! Я скучала по тебе.
— Да и он. Смотри, как быстро подплыл.
— С тех пор, как Лебедь появился на этом озере, так и не уплывал никуда. Погладь его. Видишь, как он склоняет перед тобой своё рыжее пятно. Рыжее как твои волосы.
Старик сам протянул руку, чтобы дотронуться до птицы, как она тут же вспорхнула, и скрылась за кронами невысоких деревьев. Как оказалось, навсегда.
— Ты смотри, ку….?
Его «куда» затерялось в волнительном порыве встрепенувшейся души.
Он повернул голову, чтобы обратить к жене свой недоумевающий и уставший взор, но она также испарилась в повисшем над землёю тумане.
— Майечка, — прошептал безнадежно старик.
Вновь он как-то ещё больше осунулся и медленно — медленно побрел обратно в тишину опустевшего дома, спокойно ожидать их самой последней встречи. Самой. Последней. Встречи.
P.S: Данные персонажи, и все события, описанные в истории вымышленные, и не имеют ничего общего с реальными людьми. Все аналогии случайны.
Мрачное, серое накрепко обняло небо: скоро заморосит.
— Ей идет черный цвет, — раздался, просеянный через сито ветра и слез, баритон Аркадия Никифоровича.
– Как ей шел черный цвет, — ударился он в слёзы.
Ссутулившийся старик, он молчал. Плакал, но про себя.
В голове раздался голос, её голос: бархатный, глубокий как синее море.
Алёша, Алёша, — покачивалось на приливных волнах.
Она была стихия.
— Ну! Пойдём, Аркаша.
Он ещё раз взглянул на небольшой мраморный постамент с хрустальным кубом посередине, под которым в серебряной урне покоится прах его жены.
Поправил цветы, георгины, у гравировки.
И мысленно попрощался, глаза-в-глаза, с той, чьё имя он будет хранить в памяти до последней картинки перед уплывающим в вечное Небытие взором.
— Скоро и я, Майечка. Скоро и я, люба моя. Подожди.
Красивая женщина в шелковом платье цвета толченого грифеля отвечала ему вселенским спокойствием, застывшим в ее чудесных больших глазах.
Он накрепко вдавил свои длинные пальцы в глаза, до темноты, до боли физической, в надежде душевную боль унять.
И вроде бы годы, и вроде бы всё понимаешь. Но эту боль унять сложно, боль утраты.
Утраты кого? Любимого человека? Само собой.
Но она была для него больше, чем просто любовь. Она – вся его сущность.
Скорее, скорее. Почему так быстро утекает песок времени, когда ты здесь, на Земле, и так медленно, — когда уже одной ногой там, на перепутье?
Старик оперся правой рукой о черного дерева трость с резным набалдашником в виде головы лебедя.
Эту трость ему подарила она незадолго до своей смерти.
— Смотри, что я тебе приготовила.
— Мой любимый “tarte aux pommes”?
— Да какой ещё?! – ах, эта ее «с дьвольцой» улыбка — Нет, смотри же сюда!
И она достала из потаенного угла за дверью, между гостиной и столовой, длинный сверток белоснежно — белой бумаги. Протянула этот сверток наигранно-театральным жестом.
— Что это?
— Взгляни, взгляни же скорее! Ну же!
На его и на ее лице пламенело тщательно скрываемое нетерпение, искры которого падали на одинаково изящный рот обоих, который сейчас съехал куда-то в сторону, подобно покосившейся крыше старого дома.
— Батюшки, — пролепетал он, отбросив оберточную бумагу в сторону, и щёголем начал расхаживать по паркету, громко простукивая глянцевую его поверхность новой тростью и каблуками лакированных туфель.
— Это же Лебедь. Наш Лебедь!
— Конечно же, наш.
— Удивительно! Майечка, спасибо тебе.
— Носи. Это тебе на память обо мне.
— Ну что ты такое говоришь, любовь моя?!
Когда муж так её называл, Маааайечка, на распев, она вновь ощущала себя семилетней девочкой — мотыльком, игравшей в спектакле своей тётушки Адель, которая служила актрисой в одном театре.
Ах, какая драма, какая чувственность! – подслушала однажды Майя восхищенные отзывы зрителей после очередного спектакля. Она подумала, что Драма – это имя одной из актрис, которой все восхищаются.
<…> Или воздушным пёрышком, то приближающимся к сцене, то взмывающим высоко над ней, как будто носимое на руках летнего ветерка, в погожий, искрящийся солнцем, денёк.
Ах, как хотелось и Майе поскорее вырасти и стать Драмой.
Муж нежно коснулся жениной мягкой щеки губами.
Сейчас, проходя между могилами на Новом кладбище, его собственная щека вдруг загорелась огнем при одной лишь мысли о том её прикосновении.
Небо прыснуло и охладило этот невыносимый жар.
— Ну! Вот и дошли, дорогой мой Алексей Викторович. Давайте я Вам помогу.
Вот Ваша тросточка, — обратился к старику Аркадий Никифорович.
Сам он сел рядом с водителем: «Едем — те домой!».
«Это тебе на память!», — а ведь она знала, чувствовала приближающийся конец.
Но мы клялись друг другу, что уйдём в мир иной вдвоем, взявшись за руки?! Разве нет? Воистину пути Господни неисповедимы. И работала она на износ. Эти бесконечные интервью, изматывающие до умопомрачения встречи, концерты, балы и празднества.
Она любила людей. Она дарила им всю себя и на сцене и вне сцены.
Для них она была великая танцовщица, для меня — любимая женщина. Остается ею и до сих пор.
Ушла, взмахнув, прощаясь с миром, птица,
Крылом, изломленным в угоду публике своей.
А публика, срываясь с места, гремела, рукоплескавши бурей ей,
Великой,
Вверх поднявши миллионы преданных очей.
Каждый день одно и то же: кулисы, овации, свет софитов.
Сегодня королева ушла на покой. Да здравствует королева!
Проехали мост, высвечивающий сумерки столбами цветных огней.
Он смотрел в окно и вспоминал их первую встречу на Малой Бронной.
Тогда они были приглашены в дом, на обед к поэту и его Музе.
Муза не унималась: была шумна, звучала громче музыки, натаскивала на себя одеяло из мужского внимания и взоров, уж конечно, назло поэту.
Но глаза Алексея, известного в интеллигентских кругах музыканта, заприметили другое.
Он услышал, сквозь шум, дивную мелодию, исходившую откуда – то со стороны сердца.
Это был испанский ритм, бурлящий котел, страсть, заключенная в хрупком тельце молоденькой девушки с чувственными, как у лемура, глазами.
Кармен, — подумал он.
И юная особа, видимо, также почувствовала в молодом человеке гармонию.
Он бесстыдно глядел на неё, не в силах оторвать от ее прекрасного греческого профиля, свой взгляд.
И так, после первой же встречи, они зазвучали по жизни вместе.
Он играл для нее свою музыку, а она танцевала.
— Я танцую так, как написано в партитуре. Слушайте музыку!, — часто наставляла она своих бабочек-учениц, трудившихся вместе с ней на сцене «Шекспировки».
Она кружилась вихрем перед караванами, идущими по пустыне на зов предков, перед уставшей толпой, истерзанной принесёнными войной невзгодами, перед сверкающей бриллиантами, изящной публикой во фраках.
И впитывала в себя всё, – весь мир!
Её сердце наполнялось этой энергией: вся боль и вся радость этого бренного мира.
И сердце однажды не выдержало.
<…> Он вымыл руки в ледяной воде, налил себе бокал «бееренауслезе» двадцатилетней выдержки, сел в велюровое с золотом кресло.
— Налей и мне, Алёша.
Рядом сидела она в своем лучшем платье, расслабленная, и какая-то умиротворенная, овеянная лёгкой пеленой, окутавшей её тело дымкой.
Голос не был обычным — он резонировал, как внутри наполненной прохладным воздухом пещере.
— Майя, это ты?!
— Конечно я.
— О, Господи, спасибо тебе!
Он протянул к ней свои руки, которые, несмотря на его преклонный возраст, сохранили в себе былое изящество, какого требует по обычаю его профессия.
Попытался встать, позабыв напрочь о трости. Распрямил молодцом плечи.
— Сиди, сиди, — успокоила его встревоженный порыв туманная женщина.
— Алексей, ты помнишь о моем завещании: я наказала развеять наш прах с высоты птичьего полета, когда придет и твой час?!
— Конечно, конечно, любовь моя! Я уже сказал Нижинскому, чтобы он все правильно сделал. Аркадий! Ты, верно, помнишь Аркадия Никифоровича?! Он сейчас вылетел за границу, чтобы вести там мои зарубежные дела. Спасибо ему огромное – он так помогает, наш милый друг. У меня нет сил, ты же понимаешь. Не могу. Я больше так не могу.
— Не торопи время, Алёшенька, я с тобой. А то будешь, как в том анекдоте про старика с длинной бородой, который, когда его спросили проходящие мимо ребятишки, укладывает ли он свою бороду под одеяло, или на него, когда спит, — задумался и перестал спать вовсе.
Оба засмеялись.
— Я была счастлива, и счастлива теперь. А помнишь ли ты….?
— Помню.
— А ты?
— Тоже.
И так они провели время до утра, предаваясь воспоминаниям, смеясь, радуясь, плача, хо-хо-ча.
Потом вдруг её глаз застыл, недвижный, прямо уставился то ли на китайскую вазу, привезённую с бывших гастролей, то ли поодаль, на сервант с книгами.
— А где Лебедь? Я хочу увидеть Лебедя!, – спросила она отвлечённо, обращаясь, как бы, не к нему, а к себе вовнутрь.
— Лебедь там, на озере, за домом.
— Пойдём. Я хочу поздороваться с ним.
Он взял свою трость. Половицы недовольно скрипнули: Хозяин, видите ли, нарушил их покой, двинулся по направлению к стеклянной двери, которая не заперта, как обычно, – в этом доме рады всем и всегда.
Она же медленно плыла за ним, не касаясь молодой травы, напившейся за ночь, утренней росы.
— Здравствуй, мой хороший! Я скучала по тебе.
— Да и он. Смотри, как быстро подплыл.
— С тех пор, как Лебедь появился на этом озере, так и не уплывал никуда. Погладь его. Видишь, как он склоняет перед тобой своё рыжее пятно. Рыжее как твои волосы.
Старик сам протянул руку, чтобы дотронуться до птицы, как она тут же вспорхнула, и скрылась за кронами невысоких деревьев. Как оказалось, навсегда.
— Ты смотри, ку….?
Его «куда» затерялось в волнительном порыве встрепенувшейся души.
Он повернул голову, чтобы обратить к жене свой недоумевающий и уставший взор, но она также испарилась в повисшем над землёю тумане.
— Майечка, — прошептал безнадежно старик.
Вновь он как-то ещё больше осунулся и медленно — медленно побрел обратно в тишину опустевшего дома, спокойно ожидать их самой последней встречи. Самой. Последней. Встречи.
P.S: Данные персонажи, и все события, описанные в истории вымышленные, и не имеют ничего общего с реальными людьми. Все аналогии случайны.
- 2126


- mauricechabale


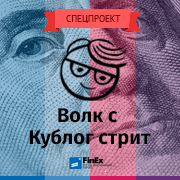


Комментарии