Михаил Савва: "В Краснодарском крае сбой уже произошел"

Сегодня стало известно, что краснодарский политог Михаил Савва задержан на 48 часов, а в его квартире начался обыск, который проводят сотрудники УФСБ. Михаил Савва подозревается в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных администрацией Краснодарского края в виде гранта. Накануне губернатор Кубани Александр Ткачев исключил Савву из Общественного совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при главе администрации Краснодарского края.
Отзываясь на событие, Кублог публикует интервью с Михаилом Саввой из книги интервью Анны Червяковой «К.Рай». Это первая полная публикация текста данного интервью в Интернете.
Сочинские Игры-2014 уже названы самой дорогой зимней Олимпиадой в истории, а ведь к ним еще может добавиться мундиаль-2018, который тоже, видимо, потребует значительных вложений. Проглотит ли Краснодарский край доставшийся ему кусок пирога?
Дело в том, что это не только краснодарский кусок пирога, а общероссийский. Поэтому, я думаю, каких-то катастрофических проблем, связанных с освоением средств на Олимпиаду, не случится. То есть, может быть, построят другого качества, построят не так много и не так быстро, но в принципе в минимальном необходимом объеме (но за максимальные деньги, как обычно) все будет сделано.
Существуют ли, на ваш взгляд, какие-то опасности в ситуации накачивания региона большими средствами в короткий срок?
Основная опасность — рост коррупции. Большие деньги предполагают в современной России масштабный «распил». А коррупция — заразная вещь, сначала она активизируется в одной отрасли, а потом начинает давать метастазы во все сферы жизни. И хотя краевые чиновники имеют очень малое отношение к схемам, которые применяются на олимпийских деньгах (там работает прямой канал Москва — Сочи), эти схемы все равно приводят к разрастанию коррупции в краевом сообществе.
Второй негатив: увеличение социального напряжения в самом Сочи, это связано с изъятием земель и жилья под олимпийские нужды. Мне известны факты, когда жителей лишали их собственности, забирали землю у моря, а взамен пытались предоставить что-то в степи.
Ну, и третий негатив — безусловно, удар по экологии. Экологический ущерб в горах компенсировать намного сложнее, чем на равнине. Повреждения достаточно тонкого слоя земли потребуют десятилетий работы для того, чтобы его восстановить.
Вливание «спортивных» инвестиций в край — теперь это главный фактор, определяющий его экономическое развитие?
Нет, безусловно, не главный. Один из факторов. Одна из наших удач. Деньги на строительство олимпийских объектов — только часть идущих сюда ресурсов. Не знаю, чем будет Олимпиада-2014 для России в целом (не факт, что грандиозным успехом), но для Краснодарского края она, конечно, уже успех. То, что здесь построят (особенно инфраструктура), останется и будет работать на нас. И проблемы Сочи как курорта, который задыхается в недоразвитых транспортных схемах с плохими дорогами, тоже давно нужно было решать. Олимпиада дала возможность это сделать.
Но для развития нашей экономики собственные ресурсы все-таки намного значительнее привлекаемых.
А как сработали олимпийские инвестиции в кри- зис конца нулевых? Это они помогли региону сохранить экономическую устойчивость?
Этого тоже сказать нельзя. Быть устойчивым в кризис краю помогла глубокая диверсифицированность нашей экономики, то есть разнообразие форм существования капитала. Если брать типичную российскую область, то она, как правило, в экономическом отношении моноцентрична: либо сельское хозяйство, либо добыча нефти, газа, угольные шахты, промышленность. Краснодарский край уникален, поскольку у нас нет одной такой доминирующей сферы экономики. Работают сразу многие.
Вы говорите «уникален» без преувеличений?
Он действительно уникален. В Краснодарском крае достаточно высоко развито несколько отраслей, относительно независимых друг от друга: рекреационная зона (все, связанное с летним отдыхом), сельское хозяйство, портовое хозяйство (логистика, перевалочные базы), добыча полезных ископаемых — да, и это тоже у нас есть. Напомню, что первые нефтяные скважины в Российской империи были пробурены именно на Кубани в 1864 году. Сейчас нефти немного, тем не менее у нас есть и свое добывающее хозяйство (оно в системе «Роснефти»).
Другими словами, экономика края не просто диверсифицирована, а разные отрасли слабо связаны друг с другом, и кризис в одной из них не означает падения другой. Это сбалансированная схема, которая позволяет нам удержаться в условиях практически любой рыночной конъюнктуры. И для того чтобы мы почувствовали всю глубину экономической катастрофы, эта катастрофа должна быть очень масштабной и системной (минувший кризис не был системным). Так что «олимпийские» деньги — не главный фактор устойчивости.
Картину портит довольно слабый промышленный комплекс (я не имею в виду пищевую индустрию).
Слабость промышленного комплекса, как ни странно, тоже оказалась для нас благом. Потому что в период обрушения российской промышленности в 90-е годы Кубань практически не была затронута этим процессом: у нас было не так много промышленных производств, которые могли рухнуть. А они бы неизбежно рухнули в силу своей полной неконкурентоспособности. Я вспоминаю, насколько пострадали российские города, привязанные к оборонным предприятиям, особенно так называемые моногорода. Сейчас там появляется жизнь, но в предыдущие годы это была экономическая пустыня. У нас же ничего такого не произошло. Да, было несколько заводов, которые закрылись. Но их закрытие оказалось не слишком ощутимо: потерявших работу было не так много в процентном отношении ко всему работающему населению края.
О каких экономических проблемах в регионе можно говорить?
В чем проблемы? Первая — в очень жестком административном регулировании. По моему мнению, в Краснодарском крае на протяжении последнего десятилетия была построена одна из самых жестких управленческих схем, которые сейчас есть в российских регионах. Единственный центр власти в крае — администрация во главе с губернатором. Политической конкуренции у нее нет никакой. И этот единственный центр власти монопольно устанавливает свои правила экономической игры, которые не всегда здравые. Все это порождает у бизнеса страх перед развитием: зачем развиваться, вкладывать деньги, если завтра у тебя могут все отобрать? У нас много примеров рейдерства, захватов и поглощений фирм.
Если бы не этот фактор, все наши экономические показатели были бы намного выше. Я имею в виду реальные показатели, потому что в настоящее время часть официальной экономической статистики вызывает серьезные сомнения.
Но в одном из интервью вы говорили, что жесткая моноцентричность краевой власти как раз привлекательна для крупного инвестора. Следовательно, она работает на благо местной экономики.
Совершенно верно, для крупного внешнего инвестора она привлекательна, поскольку на других территориях России в условиях всеобщей коррупционности власти этому инвестору приходится платить и одним, и другим, и третьим, и даже четвертым. В наших же обстоятельствах нужно договориться с центром — администрацией, и этого достаточно, чтобы все остальные оставили инвестора в покое и не мешали его бизнесу. Но крупные привлеченные инвесторы не являются в местной экономике единственной и главной группой игроков. Значительная часть нашей экономики — это реинвестиции: когда заработанные в крае деньги вкладывают в его же развитие. Я говорю о малом и среднем бизнесе. Вот он не имеет никакого карт-бланша.
Тем не менее, малый бизнес в Краснодарском крае успешно развивается. Особенно это видно в сравнении с большинством других регионов Федерации.
Эта особенность связана с качеством нашего населения. Для того чтобы заниматься бизнесом, у человека должна быть инициатива. И населения должно быть достаточно много, чтобы выдвигать из своей среды инициативных людей, готовых рисковать, готовых терять.
На Кубани нет проблемы вымирающих населенных пунктов, у нас высокая плотность населения: порядка 70 человек на км2 (а в среднем по России—8 человек на км2). Это ничья не заслуга, так сложилось. Именно поэтому у нас малый и средний бизнес существует и пытается развиваться, но он далеко не процветает, потому что уровень коррупционной нагрузки в крае чрезвычайно высок.
Ну, для примера: недавно в Москве на одном совещании я встретился с руководителем сахалинской строительной саморегулируемой организации (это нечто вроде гильдии ремесленников), и мы заговорили об уровне коррупционной нагрузки на вновь построенное жилье. В Краснодарском крае, как показало исследование, выполненное мной по заказу Южного регионального ресурсного центра в 2007 году, он составляет 40%. То есть один квадратный метр во вновь построенных домах на первичном рынке стоил бы на 40% дешевле, если бы не коррупция на всех уровнях. И естественно, строители закладывают расходы на коррупцию в стоимость продаваемого жилья. На Сахалине этот показатель составляет 6%. Согласитесь, есть разница.
Да, но кто же хочет жить на Сахалине?
Совершенно верно. Мне так и ответили. Но в любом случае в России есть регионы, сопоставимые с Кубанью по темпам роста и развитости — Самарская область, Свердловская область, в которых при этом показатель коррупционной нагрузки существенно ниже. Вот тут и виден субъективный фактор, который называется «политическая воля руководства региона».
Скажите как историк, когда в России может закончиться нынешний период неуправляемой коррупции?
Он, так скажем, начнет заканчиваться, когда тотально коррумпированной перестанет быть наша правоохранительная система. Я понимаю, что коррупция — зло вечное, но одно дело, если отдельный чиновник, страшно боясь и оглядываясь по сторонам, берет взятку, а другое — если взятки берутся системно и для всех озвучен прейскурант.
Пример Грузии показывает, что при наличии жесткой политической воли достаточно пары лет, чтобы сделать коррупцию исключением, а не правилом. Там это произошло. И при всех проблемах режима Саакашвилли у него есть очень серьезная внутренняя поддержка именно благодаря тому, что этому режиму удалось победить в Грузии коррупцию. Ведь вы же понимаете, что страна за Главным Кавказским хребтом, живущая по законам в основном не западного, а восточного мира, не была свободна от коррупции никогда: ни в советские времена, ни в 90-е годы, когда стала независимой.
А что заставляет власть использовать «технологию» жесткой политической воли?
Когда мы говорим о системной коррупции в нашей стране, надо четко понимать: система состоит из множества людей, и выпадение из нее одного винта, одного человека, у которого даже изменилась психология, практически ничего не изменит. Если чиновник встроен в коррупционную систему, он не может сломать ее в одиночку, потому что это будет удар по тем, с кем он связан выше и ниже, а также справа и слева. А вторая особенность системной коррупции в том, что в ней никто сам не может остановиться.
То есть это поезд без тормозов?
На самом деле, тормоза есть. И. Этот сбой называется «станица Кущевская», поскольку то, что там случилось, явно замешано на коррупции правоохранительных органов. Но вообще пока остается вопросом, что на самом деле долж- но случиться, чтобы поставить точку в нашей коррупции. Как говорят физики-ядерщики, критическая масса еще не достигнута.
Вы много лет изучали конфликты, связанные с межнациональными отношениями и миграцией на Северном Кавказе. Скажите, вот сейчас национализм — это проблема для Краснодарского края?
Есть такой показатель — индекс этнической мозаичности: когда мы рассчитываем, какова теоретическая вероятность общения представителя одной национальности с представителем другой национальности. Так вот, в среднем по России этот индекс составляет 0,003. Самое высокое значение он имеет в Дагестане — 0,8. В Краснодарском крае — примерно 0,3. (Все это — мои расчеты, которые я сделал на основании официальных данных переписи населения России 2002 года.) То есть мы, конечно, далеко отстоим от Дагестана по этому показателю, но на порядки выше, чем Россия в среднем.
Поэтому для Краснодарского края характерен, причем почти постоянно, достаточно высокий уровень напряженности межэтнических отношений. Это абсолютно понятно. Ведь если человек не видит в своем окружении людей другой национальности, то трудно откуда-то взяться и национализму. Когда происходит конфликт между людьми одной национальности, они обвиняют друг друга в чем угодно, но почвы для национализма в этом случае нет. А когда они по случайности оказываются принадлежащими к разным национальностям, зачастую первое, что приходит в голову обывателю-участнику конфликта: «он другой, и причина разногласий именно в этом». Или: «он хотел ущемить меня по национальному признаку».
Кубанский обыватель имеет какую-то особую психологию поведения, выработанную жизнью в многонациональной среде?
Да, у нас есть некоторый иммунитет к агрессивному национализму. Когда человек с детства видит в своем окружении людей других национальностей, играет с ними в общем дворе и сидит за одной партой, он сам приходит к выводу, что людей следует оценивать не по национальным критериям. А если у человека такого опыта не было, и вдруг он переезжает в другую местность, где живут люди разных национальностей,— вот здесь главным образом и возникают проблемы. Еще одна особенность Кубани — это достаточно жесткая реакция на чужой национализм.
Другими словами, здесь один национализм натолкнется на другой. Это одновременно и плохо, и хорошо. Хорошо в том плане, что для людей, привыкших решать свои проблемы при помощи агрессии и насилия, здесь нет раздолья. Их останавливают местные жители других национальностей. А плохо потому, что все- таки присутствует высокий конфликтный потенциал.
Живя на Кубани, надо очень хорошо думать, прежде чем начинать шутить на тему чужой национальности, поскольку высокий конфликтный потенциал означает, что очень быстро и даже внезапно из незначительного повода могут вырасти не просто настроения, а протестные действия. Люди не будут сидеть и уныло изливать душу в блогах. Они перейдут именно к протестным действиям.
Интересно, турков-месхетинцев из Краснодарского края «выдавили» именно такие протестные действия снизу, или ключевую роль сыграло административное решение?
И то, и другое. Турки-месхетинцы уехали из края в Соединенные Штаты в период с 2004 по 2007 год. Не все. По моим подсчетам, здесь осталось около 5 тысяч турок-месхетинцев. Когда они стали прибывать в край в 89-90-м годах, то попали буквально в кипящий страстями котел. Это был период развала Советского Союза, женских бунтов против отправки наших резервистов в Азербайджан (когда тысячные толпы женщин заполняли площадь перед крайкомом партии), очень жестких реакций казачьих обществ на уголовные преступления, которые совершались мигрантами.
И тут на территории края компактно селится еще одна группа другой национальности, культуры и религии. Почему компактно? Случайно. Турки-месхетинцы покупали дома у крымских татар, которые как раз в это время в результате снятия запрета уезжали в Крым. И татары снимались целыми улицами. А турки-месхетинцы покупали у них дома по ручным сделкам (официально им дома не оформляли) и тоже селились компактно. Такое заселение всегда привлекает внимание и вызывает много более жесткую ответную реакцию населения, чем в обычных условиях. Плюс к тому сыграл свою роль местный политический режим. Тогда главой края был Николай Кондратенко. Он принял ряд очень жестких постановлений, дошло до того, что контейнеры с вещами турок-месхетинцев отправлялись обратно. То есть развернутая властью информационная кампания была построена на негативе. И этот негативный стереотип в отношении турок-месхетинцев закрепился достаточно быстро и достаточно прочно.
Я брал интервью в 2005 году у турок и их русских соседей. И увидел интересную вещь: у русских соседей к туркам-месхетинцам претензий не было. Соседские отношения были прекрасные: они ходили поздравлять друг друга с праздниками, помогали друг другу. Так называемые разборки с местным населением обычно возникали с участием представителей казачьих обществ, причем казаки появлялись даже из других станиц.
Что провоцировало казаков?
Главная сфера, где происходил конфликт, — конкуренция за женщин, но не у самих казаков. Начиналось все обычно с драк на молодежных дискотеках. И на эти разбирательства вторым эшелоном подтягивались казаки. В те годы казаки позиционировали себя как защитники местного населения от «понаехавших тут», и для них данный конфликт был очень актуальным. Без участия в подобных конфликтах в то время вообще было непонятно, зачем нужны казачьи общества.
А сейчас, как вы считаете, зачем они нужны?
Интересный вопрос. Для многих людей, которые находятся в казачьих обществах, это механизм самореализации. Для других — возможность получить какую-то работу на муниципальной казачьей службе. Для третьих — способ компенсации чувства депривации: вот человек чувствует несправедливость, ее надо защитить, — и он надевает казачью форму. Хотя лично мне такие мысли в голову не приходили. Моя единственная фотография в казачьей форме сделана во времена студенческой молодости в нашем казачьем ансамбле.
Вы потомственный казак?
По семейным преданиям — да. Но все-таки сегодня общество настолько изменилось по сравнению с временами Российской империи, что говорить о возрождении казачества в том виде особого сословия, в каком оно существовало до революции, невозможно. Уже накануне 1917 года на территории Кубанской области казаки не составляли большинства — всего 43%. Остальное население было иногороднее и горское.
«Сочи—не Кубань» — эту фразу приходится часто слышать и от жителей самого Сочи, и от краснодарцев, и от остальных кубанцев. Такое представление уходит корнями в отношения «казаки — не казаки», или жители Сочи просто не забывают десятилетия республиканской независимости города с 1948 по 1958 годы?
Корнями это уходит вот куда: историческая Кубань, то есть Кубанская область, в имперские времена не имела никакого отношения к Черноморской губернии, в которую входил Сочи. Это были две совершенно разные административные единицы.
Черноморская губерния тянулась от Анапы и включала в себя все побережье, причем вместе с Абхазией. Ее административным центром был Сухум. В губернии не было казачьего населения и не было военно-гражданского управления. (В то время как в Кубанской области атаман был одновременно и губернатором, и военным начальником — в этом заключалась особенность казачьих областей.)
Заселяли Черноморскую губернию поселенцы, которые появились на этой территории после окончания Кавказской войны в результате целенаправленной политики правительства Российской империи. И в этническом отношении это получился один из самых лоскутных регионов России, поскольку туда переселяли из всех трудоизбыточных губерний: достаточно много шло крестьян из России и Украины, очень большой массив составили амшенские армяне, которые получили возможность переехать из Турции. До сих пор в этих землях есть эстонские поселения: Эсто-Садок под Красной Поляной, например. А сама Красная Поляна была греческим поселением, куда переселялись греки из Ставропольской губернии и из Крыма. Под Адлером жили молдаване, местность рядом с аэропортом и сейчас называется Молдовкой, хотя молдаван там уже нет.
Другими словами, население этого региона радикально отличалось от казачьего населения Кубанской области. И когда в 1937 году был создан Краснодарский край, эти территории впервые были объединены.
Но уже без Сухума.
Да. Была произведена такая административная революция: Абхазия оказалась в составе Советской Грузии, а вот территория всего Сочи вошла в состав Краснодарского края. С тех пор мы вместе.
Это объединение в рамках одной территории было вызвано исключительно экономическими мотивами. И с этой точки зрения оно совершенно логично. Население, занимающееся рекреационным бизнесом, должно откуда-то получать продукты питания. И курортники должны чем-то питаться летом (в советское время невозможно было привезти продовольствие из Турции, как сейчас). Поэтому потребовалось замкнуть в рамках единого хозяйственного комплекса эти две совершенно разные по составу населения территории. Их замкнули, но различия очевидны до сих пор.
В чем же различия?
В первую очередь это различия менталитета, конечно. Во вторую оче- редь, во многом из-за Главного Кавказского хребта, который разде- ляет Сочи с юга, а Кубань—с севера, это еще и информационные различия. Чрезвычайная редкость: только у нас на территории одного субъекта Федерации есть две государственные телерадиокомпании, входящие в систему ВГТРК: «Кубань» и «Сочи». А почему? Потому что через Главный Кавказский хребет сигнал из Краснодара не идет. То есть получается, что достаточно долго было две государственные информационные политики: одна на Сочи, другая—на Кубань.
Все это, естественно, сказывалось, и уже в наше десятилетие власти Краснодарского края предприняли достаточно активные действия для того, чтобы трещина стала меньше. И, как следствие, сегодня городом Сочи сочинцы уже не управляют.
Кажется, это подогревает у населения курорта силь- ную обиду по отношению к «кубаноидам».
Да. Может быть. (Пауза.) Но знаете, мне, например, тоже иногда обидно, что губернаторы не избираются населением. Однако вспомнив предыдущего краснодарского губернатора, яркого популиста Кондратенко Николая Игнатовича, я понимаю, что, может быть, и не нужно пока выборов. Пока вот такой жесткий популизм находит отклик у населения, и можно избраться на волне негатива. Точно так же и сочинцы: пусть лучше они ориентируются по тому, что происходит с городом, а не по тому, кто им управляет.
Сегодняшний мэр Сочи Анатолий Пахомов, сам выходец из кубанской станицы, в 2010 году критиковал в своем блоге сочинцев за то, что они потребительски относятся к Олимпиаде и олимпийской стройке: «Многие считают, что им все должны». Как вы считаете, верна ли такая оценка сочинцев, или она чего-то не учитывает?
Не совсем верна. Хотя Сочи действительно очень своеобразный город. Один мой знакомый, переехавший туда из Москвы лет 20 назад, как-то сказал: «Сколько здесь живу, не могу привыкнуть к тому, что у местных мужчин психология таксистов, а у женщин—официанток». Жесткая фраза, но по-своему она отражает реальность, потому что Сочи — это город сферы услуг, и у большинства его жителей не может быть другой психологии, откуда ей взяться?
И еще один пример. Я достаточно хорошо знаю мир некоммерческих организаций края. И если бы был какой-нибудь децильный коэффициент, измеряющий число НКО на тысячу населения, то Сочи явно проиграл бы остальному Краснодарскому краю: в нем мало реально действующих некоммерческих организаций. В то же время там есть активные и инициативные люди. И там намного более развито, чем по краю, движение товариществ собственников жилья. Почему именно в Сочи они возникли раньше и стали активнее, чем везде по краю? Да очень просто: там намного дороже земля. И все связанное с ней, с дворами, детскими площадками, гаражами, зелеными зонами, начало «решаться» в Сочи раньше и быстрее. И жителям пришлось самоорганизоваться для отстаивания своих интересов. То есть гражданское общество там есть. Но оно специфическое. Социальная активность сочинцев почти всегда замешана на личном интересе.
Нет, там не все потребители. Но их процент выше, чем в среднем по краю. Однако в условиях Сочи этот факт нормален. Вот такой мой достаточно субъективный вывод.
Когда мы говорим о напряжении между Кубанью и Сочи из-за разницы менталитетов их жителей, все-таки есть ожидание, что оно спадет благодаря совместной подготовке к спортивным событиям 14 и 18 годов.
Вы знаете, среди жителей, по-моему, особого напряжения нет. Подавляющему большинству краснодарцев глубоко все равно, что там о них думают в Сочи. И сочинцам тоже, строго говоря, безразлично, кем их считают кубанцы. Это мифологема. Вот если говорить о взаимоотношениях элит, краснодарской и сочинской,— да, там огромное напряжение и проблемы. Но это не отношения Краснодар — Сочи, это отношение двух влиятельных групп. И, безусловно, со стороны группы Сочи есть большая ревность, особенно если вспоминать о прежнем республиканском статусе в советские времена. Сочи всегда был курортом союзного значения, и это означало достаточно мягкое подчинение Краснодару как краевому центру.
А сейчас оно стало жестче, или Сочи в большей степени ориентирован на Москву?
Подчинение стало жестче в административном плане. Но не в плане бизнеса. У многих сочинских предпринимателей сотовые телефоны имеют московские номера. Так удобнее, потому что их основные партнеры находятся в Москве, и звонить туда им приходится чаще, чем в Краснодар.
Пройдут спортивные события мирового значе- ния —что будет с оставшимися после них спортив- ными дворцами и стадионами в Сочи?
Дело в том, что часть спортивных сооружений, которые строятся в Сочи, разборные. Потому что в «мирное время» в Сочи действительно не нужна такая концентрация спортивных объектов. Их перенесут на другие территории, в том числе в Краснодарском крае, насколько я знаю.
Главное, что останется в Сочи,— это инфраструктура. Стройки по Мзымте и в районе Красной Поляны уже поражают. Это действительно огромный масштаб. Я помню, что в советское время каждая поездка в Красную Поляну была приключением: одна колея по горному серпантину, выдолбленные в скале ниши, чтобы встречный автомобиль мог туда прижаться. Сейчас вы проезжаете, даже не заметив, что поднялись на высоту, поскольку туннели идут сквозь горы.
Станет ли Сочи разовой выставкой достижений, или город разовьется в самоокупаемый спортивно-тури- стический проект?
Не знаю. Есть в науке такое понятие — «точка бифуркации», то есть момент времени, когда возникает несколько вероятных вариантов развития. Как у богатыря из русской сказки. Сочи находится как раз в этой самой точке бифуркации. Объективно у города именно сейчас создаются возможности стать доходным рекреационно-туристическим проектом. Но удастся ли это, зависит от качества управления. И не только в городе, но и в крае, и на уровне России.
ДЕКАБРЬ 2010
Справка
Михаил Валентинович Савва
Родился в 1964 году. Доктор политических наук, профессор кафедры связей с общественностью Кубанского государственного университета, экс-председатель Общественного совета при ГУВД по Краснодарскому краю, директор грантовых программ Южного регионального ресурсного центра (общественная организация, реализующая программы по развитию гражданского общества на юге России). В начале 90-х возглавлял управление по делам национальностей, региональной политике и миграции администрации Краснодарского края. Автор трех монографий, посвященных этнополитологии и этноконфликтологии.
Коренной краснодарец, с восьми лет жил в Норильске, в 1982 году вернулся в Краснодар.
- 4031


- AnnaChervyakova

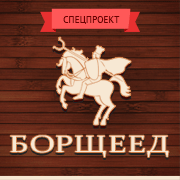
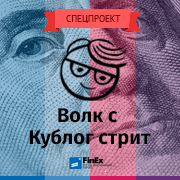
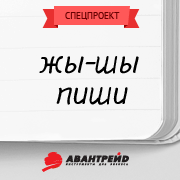

Черноморская губерния была создана лишь в 1896 году, до этого все-таки побережье было связано с Кубанью: существовал Черноморский округ в составе Кубанской области. Еще — Абхазия входила в состав Черноморской губернии лишь частично — от Псоу на западе до Гагр на востоке. И, наконец, столицей губернии был не Сухум, а Новороссийск.
Я думаю любой, кто знаком с М.В.Саввой, с тем чем он занимался скажет «не верю», на тот бред что ему вменяется. А сажают его за то что писал и говорил правду о происходящем