Кот Басё о концерте Полозковой: "По Вере вашей"
28 ноября на сцене ДК ЖД прошел концерт с названием «Города и числа» российской поэтессы Веры Полозковой. На него отправилась другая российская поэтесса Кот Басё (Светлана Лаврентьева).
Года полтора назад Вера Полозкова уже приезжала в Краснодар, где выступала в клубе, названия которого я не помню. Тогда я не попала на него волей обстоятельств. В этот раз не собиралась идти осознанно. Когда идешь от текста к автору, боишься разочарования.
Однако Кублог был бдителен и не позволил мне сомневаться.
Первое: мне не понравилось быть аккредитованным журналистом. У организаторов не нашлось времени, чтобы провести нас в зал. На звонки нервно просили ждать. Соглашусь, подготовка любого концерта – дело ответственное. Тем более, по словам самой Веры, самолет с ней и музыкантами задержался, и все пришлось готовить в ускоренном режиме. Однако мы этого не ведали и ждали. Девайсов вроде пропуска предусмотрено не было. Нам сообщили, что «люди от Кублога» уже прошли, затем посоветовали стоять спокойно — «успеется». Мне успелось. Вчера мы предусмотрительно пошли и приобрели пару билетов на случай «если». Моему аккредитованному коллеге билета не хватило. Поэтому он не дождался и уехал в осеннюю мглу. А жаль.

В зал впустили без пяти восемь, концерт начался в 20:45. Времени оглядеться было достаточно. Портрет целевой аудитории был юн и прекрасен. 16-22 летние девушки в расцвете трепетных чувств. Также были замечены пара почтенных дам и один седой господин. Видимо, профессор. Молодые люди встречались изредка, и, если верить классификации Димы Харламова, были все больше хипстерами. В целом, зал был почти полон (пустовали лишь балкон да боковые ложи), что для поэтического вечера, безусловно, большой успех.
На сцене был небольшой экран для видеоинсталляций. Настроение задавали 2 музыканта, а точнее, композитор и басист. В центре – микрофон для Веры.

Появилась она стремительно, в темном платье в пол, на шпильках, с высокой прической. Статная, красивая женщина. И вечер начался.
Для тех, кто не знаком с творчеством Полозковой, все происходящее выглядело чем-то вроде поэтической исповеди, где один текст перетекал в другой, иногда даже не меняя интонаций. Я читаю Веру давно, и мне такой выбор и порядок текстов показался несколько странным. Были и «хрестоматийно» сильные вещи – «Или даже не бог, а какой-нибудь его зам…», «Бернард пишет Эстер…», были и тексты–однодневки, которые чаще пишутся на салфетках, только чтобы удержать образ, были и «свежие» тексты, еще не успевшие выкристаллизоваться из потока дней.
Читала Вера в свойственной ей манере: не декламируя, но рассказывая, в основном по памяти, что само по себе здорово, так как лист в руках всегда отвлекает, как и сосредоточенность чтеца на бумаге, а не на зрителе.

За спиной у Полозковой, на экране, происходил видеоряд, призванный не столько создавать визуализацию к текстам, сколько служить фоном всего действа, как служит фоном беседы огонь в камине. Кадры архивных кинохроник, вода, причудливые орнаменты, индийские мотивы — все это сменяло друг друга под саунд, который то становился далеким фоном, то звучал громче, словно нависая над текстами.
Иногда все составляющие этой инсталляции совпадали – и у зрителя возникало чувство близости к чему-то простому и глубокому. Но каллейдоскоп снова распадался – Вера рассказывала, музыканты продолжали свою волну, видеоряд вспыхивал, заставляя до рези в глазах всматриваться в абстрактные картины, минуя взглядом самого поэта.

Полозкова этого вечера состояла из Бога, Смерти и Индии. Иногда это становилось рядом синонимов. Иногда Бог выходил Богом, а Смерть – Смертью. Индия же всегда вела от второй к первому.
Я читала все тексты, звучавшие в этот вечер. И в большинстве из них я чувствовала пространство, в котором слова ведут туда, где каждый находит свою дорогу. Но слушая, как эти же тексты звучат со сцены, я находила только игру слов.
На пятом стихотворении Бог перестал быть Богом, словно устав от бесчисленных панибратских обращений. Смерть затерялась среди улиц и автострад, баров и этажей. Индия перестала вмещать в себя мир и рассыпалась на ворох фотографий. Так ты прикасаешься к чуду и вдруг видишь, из чего оно сделано. Видишь механизмы и винтики, пятна от кофе на салфетке, остатки завтрака на столе. Когда б вы знали, из какого сора. Но надо ли нам знать?

«Наш самолет приземлился полтора час назад, но мы все успели», — говорит Вера. Успели понять Бога и постичь Смерть, ибо сегодня это также просто, как выпить самбуку в том самом баре «со стробоскопом под потолком».
Нам перевели метафору, перевели на язык современных таблоидов и западных сериалов. И даже Индия — сказочный Ашрам – становится картинкой из туристического буклета.
Первым чувством было разочарование, но оно никак не вязалось с теми эмоциями, которые я испытывала, когда оставалась с текстом один на один. И только под занавес, когда зал восторженно встал, я поняла, в чем слабость и сила поэта, рискнувшего выйти за границы собственных книг и встать лицом к залу. Это осознанный или неосознанный отказ от глубин во имя общности – с публикой, с эпохой, с мейнстримом, как сейчас принято говорить.

Мне кажется, она знает об этом — о магии речи и языке толпы. Но поэт, вышедший на сцену – уже не в джисах и футболке, небрежно сползающей с плеча, но в образе, несущий слово как откровение, — поэт, говорящий вслух то, о чем ему шепталось тайно, заключает сделку с самим собой. Или с той частью себя, что «вечно совершает благо». И – во благо – убирает из текста то, что делает творчество таинством, доступным лишь избранным.
Поэзия становится подвластна каждому. Возможно, именно поэтому у Полозковой столько подражателей. Каждый готов познать Бога, сидя на кухне или переписываясь в чате. Как говорится, по Вере вашей.
Кот Басё
События
- 6961


- NastyaVasilchenko

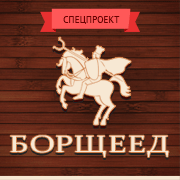
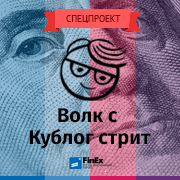
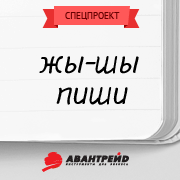
































Зачем, в общем, одомашнивать метафизику и прививать ее в таком кастрированном виде глупым девочкам?
И я не думаю, что это снобизм. Просто между этим и большой поэзией лежит пропасть, и никак оно между собой не связано.
это позор в России, стране литературы
Та я вас умоляю. Этот позор с 1917 года длится. А то и раньше. Сколько там книжек из первого издания «Камня» было куплено в благословенный Серебряный век? Не надо романтизировать.
И вопрос: что вам не нравится в Евтушенко как в поэте и мастере и в Полозковой как в поэтессе?
В Евтушенко не нравится перевес конъюнктурщины над талантом и склонность к банальности. Плюс склонность к дидактике, как и у всей шестидесятнической братии.
В Полозковой — опять же, банальность и манерность, за которой ничего не стоит. Мелкий масштаб, в общем. Не метафизика, а скольжение по поверхности, причем по поверхности не бытия, а социума.
Да, еще это явление губительно огромным количеством эпигонов. И даже не эпигонов. Просто огромное количество девочек, которые пишут точно так же (и читают стихи точно так же!) внезапно осознали, что это и есть настоящая поэзия, и другой и не надо.
Только что вернулся с некоего поэтического мероприятия (в СПб), картина та же. Удручающе.
Кто нравится? Тут очень большой список. Из русских — Мандельштам, Бродский, отчасти Щировский, отчасти Заболоцкий. Да очень большой список, начиная с 19 века. Из зарубежных тоже очень много. Из современников наших Транстремер, например.
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Да, безусловно, евтушенки уровнем выше полозковых. Дальше-то что?
Вы думаете, я не знаю, что такое верлибр, и кто им писал? Вроде в учителя тут не нанимал никого.
Разумеется, я знаю про рифмованные переводы Трансремера. И мне они не нравятся. Однако я также знаю то, что Бродский (который в вопросе о стихе Евтушенко почему-то для вас оказывается авторитетом) считал, что именно так и нужно его переводить. И, опять же, с ним не согласен.
Насчет после 17 года — имел в виду рассуждения про работу грузчиком и неуважение к поэзии. Ну а также тупо непечатание, разрыв традиций и физическое уничтожение.
Но то, что он был совершенно коммерческим автором отрицать нельзя. И, кстати, очень патриотически настроенным
Я хоть где-то сказал, что поэзией нельзя зарабатывать и т.п.? И причем тут патриотизм и непатриотизм? Речь-то о другом.
Я к чему, из ваших постов сквозит юношеский максимализм человека, который познаёт
Да вы че, издеваетесь? Мне как раз-то уже ни до полозковой дела нет, ни до кого такого, мир в голове уже выстроен. Есть метафизика, есть сопли, и вместе им не сойтись. Понятно, я познаю до сих пор, к счастью. Просто я читаю стихи, а не социальные явления. И в оценке стихов почему бы не быть строгим? Писать стихи, в конце концов, одно из лучших и главных занятий человечества. И если мы нивелируем еще и его — то что останется?
так как с помощью подобных авторов наше несчастное население с удивлением узнаёт, что кроме текстов поп-песен в нынешнее время возможны ещё и стихи
А намного ли лучше эти стихи, чем тексты поп-песен? И какое «нынешнее время»? Одинаковое время всегда, плюс-минус. И читает стихи что в 19 веке, что сейчас, примерно одинаковая часть населения. Так зачем же размениваться на мелочи? Зачем нужен эрзац?
А под «Кузьминым» вы, видимо, имеете в виду Кузмина, вряд ли чувашского малолетнего прокурора-поэта? Я тоже не лыком шит, видите ли.
снисходительная точка зрения «лучше так, чем никак» слишком часто апеллирует к максимализму окружающих, сколько можно, что это за аргумент вообще, вы смеетесь
приведенный стих евтушенко совершенно средний, скоро зима, покричали и разошлись
И вот уж в просветители не записывался и не собираюсь.